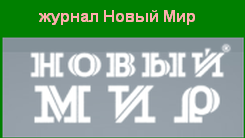Непобедимое Солнце
В больнице умер пациент. Все были счастливы. В больнице умер пациент.
Толпа набухала, как вспенившееся шампанское. Но как вино не ведает, зачем его наливают в бокал, так никто из этого разношерстного карнавального консилиума не понимал, что произошло.
Каждый был занят своим делом: протоколисты протоколировали, следователи стояли и смотрели, врачи уже не врачевали. И лишь мертвец не знал, что ему со всеми ими делать.
Причину скоропостижной смерти еще только предстояло установить.
Мертвец не знал, как подсказать им, и, главное, стоит ли. Стоит ли передавать им то самое важное, что внимательный исследователь и так мог прочесть в его остановившемся холодном взгляде? Мог бы, если бы был столь же проницателен, как сам умерший в свое время.
Пациент при жизни умел читать по глазам. Это знали все, кто имел удовольствие или несчастье - столкнуться с ним, как знали его имя - Гелиос. Но кто теперь мог бы прочесть его жизнь?
Если бы он мог смеяться, то вся сцена со смертью показалась бы ему смешной. Настолько, что и мертвый не смог бы удержаться. Как это смешно - умереть во сне. И от чего?
Что это? Последние воспоминания, как старая ленточная кассета, перематываются назад на магнитофоне памяти. Как мухи, слетаются к остывающему телу и жужжат, раскалывая и так уже погибшую голову на части. Он лежал, как разбитая статуя, и держал весь мир в холодных каменных руках. Держал весь мир, и письмо с дрожащими, тонущими женскими буквами и ускользающими женскими духами. И во всей этой окаменелости была какая-то грация.
Глаза, темные, словно вороньи крыла, резали, как нож, и никто не осмеливался долго в них смотреть.
Посиневшие, выразительные по форме, губы свернулись змеями и словно готовы были укусить каждого, кто по неосторожности приблизится к их блестящей коже.
Черные, небрежно сбившиеся, волосы впились в подушку, как-будто обхватив ее руками и боясь отпустить.
Все боялись подойти к нему, посмотреть в глаза умершему Солнцу. Жужжали на расстоянии. А он прокручивал в голове старую ленточную кассету.
Остается только надеяться, что магнитофон немецкий или японский, и что кассету не будет заедать.
Если никто здесь не умеет читать смерть,- решил он про себя,- смерть прочитает себя сама. Подкинет ключ от закрытой двери.
Свежая, с лимонным, цвета вечернего Солнца, румянцем на нежных девичих щеках, О. Его О. Он ждал ее, как жизнь в пустыне ждёт дождя.
Глаза тёмные и чуть слезящиеся, как разлитое по небу молоко грозы. Он ждал ее. Выкурил сигарету, выпил для смелости бокал вина. Но опьянен был ожиданием.
И вот раздался звонок. Пробуждающий ото сна, или вгоняющий в сон?
Опрокинув остаток вина в бокале, наш герой прошмыгнул в темную прихожую, открыл дверь внутрь себя, так, словно открывал шкатулку со сказкой.
О. знала о нем почти всё. Гениален, красив, амбициозен, богемный. Она знала о нем все, и тем не менее чувствовала, что не знала главного. И не знала, знает ли он сам. И так же теребила пальцы и край темной шерстяной водолазки. Шелковистые, переливающиеся на свету, длинные волосы аккуратно обрамляли слегка вытянутый, тонкий и изящный овал молодого, молочного лица. Нервозность улыбки не мешала ей светиться радугой. Такой радугой порой светятся пьющие антидепрессанты вместе с вином, или вместо вина, и все от скуки.
Легким прикосновением этой радуги О. прикоснулась к щеке еще не умершего героя - вместо приветствия - и проскользнула внутрь. Дверь захлопнулась.
Сколько было пролито нервов на засохшую почву его жизни? Почву, которую он иссушил сам.
Сколько раз она снилась ему, чтобы снова превратить его жизнь в сон?
Пустыня ждет дождя. Великая ночь наступает, время пьяниц и шарлатанов.
Они долго сидели на кухне, глядя в глаза друг другу. Молча. Молчание прервал он, слегка растягивая и цедя слова:
- Знаешь, а я ведь думал, что ты уже...
- Не приду?
- Умерла может. Я тебя больше года не видел.
- Ты не всегда и себя видишь.
- Глаза замыливаются.
- Если часто смотреть в себя...
- Обязательно увидишь монстра?
- Ага, и обомлеешь.
- Я уже млею, когда смотрю на тебя. Но ты не монстр.
- Да, я хуже.
- Перестань!
- Что?
- Иди сюда
- Что- что ты говоришь? Она словно не слышала его.
- Иди же сюда!
Ему пришлось схватить ее своей изящной, цвета слоновой кости, рукой.
Она тоже была пьяна. Было душно, за окном гроза собирала громовой кулак, чтобы в очередной раз попытаться обрушить Землю. Конец месяца. Сезон скрипел, как старая коляска, которую лошадь времени тащит из глубины истории. Год в очередной раз кончался на перепутье.
Их разговор продолжился в поцелуе. Может быть, страстном, но скорее - страшном. Так человек, просидевший год в темноте, боится света. И может ослепнуть.
Губы взяли под ручку губы, и закружились вздымающимся ветром, половодьем непрожитого и ожидаемого.
Это был танец профессионалов. И профессионалы боятся, когда танцуют для себя.
Время было беспощадно к их любви, вздымающейся в ритме бессмертных волн. В ритме бессмертных волн падающей.
Время заедало. Чертов магнитофон, наверное, все-таки очень старый. Он уже не помнил, насколько.
Она струилась в его объятиях, как сладкий табачный дым. Хотя он никогда не курил при ней. Легкая небритость и взлохмаченные, словно лес после дождя, волосы, придавали его облику ту лирическую небрежность, которую он сам так любил, и О. любила.
Как святая троица кусает армию грешников, так он кусал её поцелуй за поцелуем. За губами - щеки, уши, шея, грудь... Он делал ее грешницей, чтобы можно было сделать святой. Чтобы было, что прощать.
Схватив ее за волосы, он слегка потянул ее по направлению к комнате.
Старая дверь, распахнутая ногой.
Пыльная комната.
Сломанная старая кровать.
Её скрип.
Её влюбленный скрип.
Пол.
Грязные стены.
Разбросанные вещи, пустые бутылки, окурки в пепельнице, прыгающий по мебели свет...
Он проникал в О. Так предзакатный солнечный свет проникает в глаза, слегка щекоча их.
Солёная вода обтекает ноздри пловца, и выплескивается наружу при всплытии. Так и они любили друг друга. Поцелуями погружавшегося за морской горизонт Солнца. Объятиями согретой морской пены.
Он держал ее руку, как-будто руку оступившейся над пропастью, и боялся отпустить. Шелк ее волос и кожи двигался в такт его движениям, и дыхание, обрывистое, поверхностное, тайфуном обрушивалось на его тонкое, как купол готического храма, лицо.
Каждый раз, оставляя мокрый след на его руке, она оставляла ему свой теплый, наполненный жизнью, мир. Мир в миниатюре ее спелого, налитого светом, вожделения.
Было ли это счастьем?
- Ты счастлива?- спросил он, обрывая дыхание, как осенний лист
- Я счастлива, если ты счастлив.
Я всегда....а у тебя тропический лес на голове, так классно!- прохрустела она пухлыми губами.
А он не знал, счастлив ли. Или, возможно, это такое тонкое, неуловимое горе - ведь он ни на секунду не переставал чувствовать уколы времени по нежной коже. Он был болен ею, и одновременно - ожиданием расставания. Он посмотрел в нее, как в зеркало. Он видел ее счастье, но в этом зеркале он не узнавал себя.
- Я не хочу снова с тобой расставаться.
- У любой сказки должен быть конец
- Но иногда конец - бесконечен
- Тебе надоест
- И всё же.
- И всё же, дождливая тропическая галерея под куполом готического Храма! Вот кто ты, ты- мой Храм.
Тропическая оранжерея готического собора- вот чем были его волосы, и она трепала их дыханием муссонов, истерикой туч, холодом лавин, дрожью возбуждения.
И всё же - что ему терять? Её тело, такое живое, теплое, бурлящее, как подземный источник - оно всегда грело его воспоминания. Но он знал, что пыль жизни стирает любые воспоминания, они превращаются в миф, обрастают ложью, как виноградной лозой.
- Я не хочу, чтобы ты уходила
- Ты не знаешь, о чем говоришь
- Я всё знаю, но так и быть - я буду об этом молчать.
И до самого утра он больше не сказал ни слова. Всё было сказано.
Утром вместо неё он нашел записку. Письмо - старомодно, но романтично.
"Любимый мой. Любимый. Я должна уйти, но я вернусь, если ты найдешь меня. Где бы я ни была, я всегда буду ждать тебя. Ты рожден во мне, и я буду ждать тебя, как пустыня ждет дождя.
Как песок на пляже ждет освежающих волн.
Как ночь ждет Луну, чтобы облечь ее в свои траурные одеяния.
Да, я буду носить траур, пока ты не найдешь меня. Пока не придешь ко мне.
Я спрячусь от всего мира и от самой себя, лишь бы никто не видел меня до момента моего наивысшего счастья.
Да, я была счастлива. Я знаю это. И я знаю, что ты - был.
Ты не знаешь, ибо ты очень умен. Но я знаю, ты мне об этом сказал.
Ты будешь жить меж людей, но понимать, что все они- только тени самих себя. Лишь ты- не тень.
Ты будешь искать меня в каплях росы и дождя, в рисунках туч и танцах ветра. Ночью и ранним утром, в тропиках и на вершинах гор.
И я найдусь.
Я- твое тщеславие.
Я клянусь тебе расколотым небом.
Предзакатным Солнцем.
Скрестив свои ладони, обожженные твоими поцелуями.
Ждать тебя.
И найтись.
Иди по пути к себе. И спеши.
Не бойся смерти, любовь ведь не умрет.
Твоя О. Твоя О..."
"Как хорошо, что остались люди, которые пишут письма. Могут так любить. И всё делать так вовремя"- эта мысль, отравленная грустью моря, повисла перед нашим героем, словно висельник.
Он долго сидел со скомканным листом, и глаза его сверлили пустоту в грязной стене. Ветер влетал в распахнутое окно, как влетали в распахнутое окно жизни нашего героя все новые и новые желания. Движение, калейдоскоп желаний. Он сидел со смятым клочком бумаги, и желал всего на свете. И ничего уже не желал. Как умирающий перед самой кончиной, в агонии.
Пленка снова остановилась.
В психбольнице умер человек. Говорят, во сне.
Он поступил недавно. Искал её в своих снах. Писал письма воображаемым собеседникам.
Врачи считали, что она была его сном.
Диагноз: шизофрения, естественно. Кто бы сомневался.
Никто не сомневался.
И вот теперь он держал в окоченевшей руке письмо, написанное женской рукой. Никто не знал, как это письмо снова оказалось в его руке. Когда его доставили - изъяли всё, что было, в том числе и это письмо - изо рта. Письмо, в котором неровным, дрожащим почерком в конце было выведено: "Твоя О. Твоя Осень".
Какая осень?- думали врачи. На дворе весна, движение желаний. Он явно был сумасшедший. Родившийся осенью, умерший с осенью.
Предварительные заключения судмедэксперта - асфиксия, задохнулся.
Если бы этот эксперт знал, от чего он задохнулся...
Интересно, они бы рассмеялись, посмотрев его смерти в глаза?
Он умер прекрасно. Во сне.
Но что было сном?
Осень?
Или его жизнь?
В его глазах вечно светило Непобедимое Солнце. В его душе закрылась дверь. И ключ еще предстояло найти.
P.S. Культ Непобедимого Солнца - Sol Invictus - древний римский культ, особенно популярный при Аврелиане.
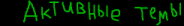 .............
.............